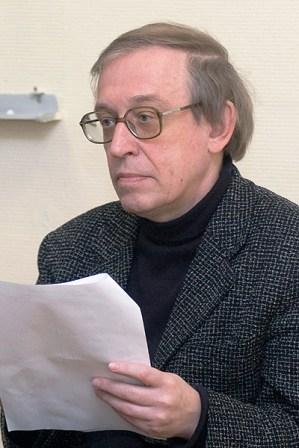Ростислав Капелюшников: Эксперты-специалисты эксплуатируют страхи российского общества
В рамках видеоконференции, организованной в формате телемоста Челябинск-Москва-Ярославль в телерадиоцентре «Восточный экспресс», экспертом выступил ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Ростислав Капелюшников. Рассуждая на тему «Рынок труда. Безработица», заместитель директора центра трудовых исследований рассказал журналистам о парадоксах безработицы 90-х и ее тесной связи с текущим состоянием дел на российском рынке труда.
Специфика российского рынка труда
На старте экономических реформ в России господствовал очень сильный страх перед перспективой массовой безработицы. Многие российские и зарубежные эксперты говорили, что наша страна обречена на катастрофу в сфере занятости, что она будет не ниже, чем в США в годы Великой депрессии, то есть не меньше 25 процентов. Однако все они были крайне удивлены, когда развитие российского рынка труда пошло по совершенно иной траектории: не наблюдалось ни сверхвысокой безработицы, которая была бы пропорциональна глубине экономического спада, ни сильного сокращения занятости.
Дело в том, что никакой высокой безработицы в России не было. Вместо этого приспособление пошло по другому пути. Не по количественному, а по ценовому. Вместо того, чтобы сокращать занятость, российские предприятия стали снижать заработок своим служащим. В итоге в России сложилась специфическая модель рынка труда со своим механизмом функционирования, который отличается от того, что можно видеть в других переходных или развитых странах. Она сформировалась во время кризиса 90-х, сумела выжить в период бурного экономического подъема, и ее черты более-менее сохранялись. А сейчас, когда настал новый кризис, возникает вопрос: будет ли российский рынок труда приспосабливаться к кризису прежними способами или поведет себя примерно как рынки труда в других странах?
Парадоксы российской безработицы 90-х
За все время кризиса 1990-х ВВП в России сократился примерно на 40 процентов, а занятость только на 15. Выпуск падал, а люди оставались на рабочих местах трудиться либо как минимум для того, чтобы находиться в отпусках без содержания. Зато в этот период значительно упала реальная заработная плата. Это означает, что приспособление к шокам на российском рынке труда шло не за счет сокращения занятости, а за счет снижения размеров заработной платы. В развитых и в переходных странах все происходит иначе. Там первой реагирует занятость, а заработная плата более-менее остается стабильной. И только когда образуется большой пул безработных, который начинает давить на заработную плату, она начинает снижаться, постепенно рассасывается безработица, и люди возвращаются на рабочие места.
Это главное отличие в поведении российского рынка труда.
На российском рынке даже в период кризиса 90-х огромное количество людей увольнялось и вновь устраивалось. Как минимум треть российской рабочей силы перебегала с места на место. По показателям оборота рабочей силы российский рынок труда опережает все рынки других стран. Занятость стабильная, а люди находятся в броуновском движении, даже в условиях кризиса – это парадокс. А когда наступил экономический подъем, эти показатели найма и выбытия даже выросли.
Нестандартные подходы
В чем секрет? За счет чего удавалось поддерживать такой низкий уровень безработицы в России?
Первое – это гибкое рабочее время. Продолжительность рабочего времени в период кризиса 90-х сократилась на 10 процентов.
Частично – за счет активного использования вынужденных отпусков и перевода работников на неполное рабочее время. Второе – это сокращение продолжительности рабочей недели, увеличение продолжительности отпусков и так далее. В течение каждого года 7-8 миллионов человек подвергались таким мерам. В некоторых отраслях в подобное положение попадало до четверти работников.
И к каким мизерным отметкам эти показатели спустились в период экономического роста!
Но все-таки главным фактором, который позволил обеспечить стабильность занятости, была гибкая заработная плата. За период кризиса 90-х реальная заработная плата упала в три раза. Это снижение было не ровным, а совершалось в три прыжка. Первый – январь 1992 года, второй прыжок – октябрьский кризис на финансовом рынке 1994 года, так называемый «черный вторник», и третий – августовский дефолт 1998 года. При каждом прыжке вниз заработная плата теряла треть или четверть. И это говорит о том, что как только что-то ударяет по российской экономике, на это реагирует заработная плата. А с занятостью ничего не происходит.
Возникает вопрос: как обеспечивалась гибкость заработной платы?
Первый фактор заключается в том, что в условиях высокой инфляции российские предприятия имели возможность повышать заработную плату не в той пропорции, в которой росли цены. Логика такова: цены выросли на 20 процентов, а мы подняли заработную плату на 10. Рабочая сила дешевеет, а значит – зачем с ней расставаться? Таким образом, снижение заработной платы стабилизировало занятость.
Второй фактор связан с особенностями оплаты труда в России. В структуре заработков в нашей стране очень большой удельный вес занимают премии, дополнительные выплаты – это не меньше трети гибкой части заработной платы. Если предприятие сталкивается с трудностями, оно вправе, ни с кем не согласовывая, просто срезать эту гибкую часть. Есть данные, что чем более благополучна отрасль экономики, тем больше в ней удельный вес этой переменной части заработной платы.
Следующий, третий фактор очень необычный и практически не встречающийся в других странах. Это задержка заработной платы. В 1998 году была достигнута феноменальная величина: две трети всех работников всей страны имели задолженность по зарплате. Понятно, если вы можете задерживать работнику выплаты, значит, его труд становится дешевле.
И последний фактор – огромная доля неофициальных выплат в конвертах. По данным Росстата, скрытые заработки составляют примерно половину от белой зарплаты, и естественно, когда предприятие сталкивается с какими-то трудностями, очень просто для него перестать платить в конвертах или уменьшить ту сумму, которую они туда кладут.
За счет всех перечисленных мною факторов российские предприятия имели возможность очень оперативно приспосабливаться к отрицательным либо положительным изменениям в экономике.
Экономика на подъеме, а модель рынка труда – та же
Многие специфические механизмы адаптации, которые были применены в условиях кризиса 90-х, в период подъема российской экономики просто вышли из употребления, хотя такие механизмы как неофициальные выплаты заработной платы сохранились и продолжали использоваться. Изменилось трудовое законодательство, правда, оно было только выборочно пересмотрено, в части механизмов контроля, например. Но характеристики рынка труда остались более-менее те же.
Это дает право утверждать, что специфическая модель российского рынка труда осталась прежней. Но, возможно, эти мелкие изменения в сумме дали некий качественный сдвиг, возможно, модель изжила себя и рынок труда в России живет по тем же правилам, что и другие рынки труда. Вопрос, насколько это действительно так? Как можно это проверить?
Можно предложить два теста. Первый – экономический. Если занятость в условиях нынешнего кризиса будет также падать в меньшей пропорции, чем высвобождение работников с предприятий – значит, модель себя сохранила. Второй тест – социальный. Если не будет никаких масштабных социальных потрясений, значит, российской модели по-прежнему удается микшировать те издержки, которые возникают в условиях кризиса.
Однако вся проблема в том, как осуществить, проверить эти тесты.
К сожалению, статистических данных сейчас практически нет, они приходят с большим опозданием. В условиях такого информационного полувакуума можно действовать следующим образом. Во-первых, послушать, что говорят альтернативные прогнозные оценки, что говорят люди. Во-вторых, оценить те действия, которые уже были предприняты государством. В-третьих, собрать те небольшие данные, которые уже успели появиться, и оценить их. И наконец – проанализировать, что изменилось в условиях рынка труда, что будет подталкивать к тому, чтобы сохранить нынешнюю модель рынка труда или развиваться иным путем.
Итак. Официальный прогноз предполагаемого уровня общей безработицы сегодня звучит как 7,5 процентав, а наиболее распространенная оценка – 10-15. В первом случае это означает, что безработица будет такой же, как и в 2005-2006 годах. Вы испытывали какие-то страхи-тревоги по поводу безработицы в эти годы? Нет. Оценка 15 процентов означает, что безработица вырастет примерно на 10 процентных пунктов, а занятость должна будет сократиться на 15. Если предположить, что в целом по России спад производства достигнет 5 процентов (это распространенный прогноз сейчас), то каждый процентный пункт падения выпуска будет сопровождаться трехпроцентными пунктами снижения занятости. Такого в природе не бывает! Иными словами, для меня очевидно, что эксперты, которые такие цифры вбрасывают в публичное пространство, просто эксплуатируют страхи общества.
Государство против безработицы
Давайте поговорим о тех действиях, которые предприняло правительство нашего государства. С 2009 года в полтора раза были увеличены размеры пособий по безработице. Естественно, что стимулы идти в агентства занятости и регистрироваться существенно возросли. Следует ждать прироста регистрируемой безработицы, не только по причине увеличения самой безработицы, но и из-за повышения этого стимула. Это будет говорить о состоянии дел в службах занятости, но не о состоянии дел на рынке труда.
Динамика в увеличении безработицы сейчас если и есть, то она ничтожна по тем признакам, которые активизировались в кризис 90-х. Сдвиг есть, но он едва различим. Единственный показатель, который может сулить нам что-то серьезное, – это показатель численности работников, намеченных к увольнению. Но это очень странный показатель, которым я, например, никогда в жизни не пользовался, хотя ему сейчас придается большое значение. Однако на самом деле он ничего не стоит, потому что предприятия могут сказать, что уволят столько-то, но ничто не обязывает их исполнить эти обязательства. И наоборот – они могут уволить и больше, чем заявили.
На данный момент правительство принимает решения, которые могут как помочь укреплению российской модели рынка труда укрепиться, так и разрушить ее.
Первое – это повышение минимального размера оплаты труда. Значит, в безработицу выталкиваются люди с низкой заработной платой. Второе – повышение зарплаты бюджетникам. Частные предприятия будут вынуждены вступать в конкуренцию с госсектором сектором за привлечение работников, им, возможно, придется для определенных категорий повысить зарплату, а это имеет следствием то, что предприятия будут одновременно сокращать занятость. Сокращение численности вооруженных сил также может увеличить безработицу – это понятно.
Кроме того, было принято решение: на тех, кто уволился сам и устроился в службу занятости, распространяются те же условия выплаты пособий, что и к тем, кто был сокращен с предприятий. Все это влияние на рост безработицы. Усиление прокурорского надзора за задержками заработной платы тоже может ее увеличить, потому что тот путь адаптации, который использовался предприятиями в 90-е годы, будет перекрыт.
Что влияет на снижение безработицы? Известно, что был создан общероссийский банк вакансий, вероятно, это сможет помочь каким-то образом. Далее – правительство сказало, что оно может оказать безработным помощь при переезде в другие регионы. Однако размеры этой программы минимальны. Плюс правительство собирается переучивать безработных – около 100 тысяч человек. Я думаю, что эффект этого решения с точки зрения влияния на безработицу будет практически незначим. В правительстве собираются создавать временные рабочие места для тех, кто находится во временных отпусках или на сокращенном рабочем дне. Смысла в этом не вижу. Инженер вряд ли захочет выучиться на учителя, чтобы проработать полгода в школе, а потом снова вернуться в цех.
«За» и «против»
Адаптация к кризису опять идет по всем азимутам. Предприятия вновь вспомнили о таких механизмах, как вынужденные отпуска и задержка заработной платы. Это аргумент в пользу того, что особенность модели российского рынка труда сохраняется, что она готова реагировать на кризис так же, как она делала это раньше. По последней информации, задолженность по заработной плате сейчас испытывает 300 тысяч человек. Для сравнения, в 2005 году это касалось 2,5 миллиона человек. То есть нам еще долго предстоит идти до прежнего показателя.
И никаких симптомов о приближении катастрофы на рынке труда нет. Ну конечно, это не значит, что в отдельных точках ситуация не может ухудшаться и в каких-то регионах она может действительно достигать критической точки.
А что может подтолкнуть рынок труда пойти другому варианту? Самый важный фактор, и я удивляюсь, что об этом никто говорит, – это то, что кризис будет протекать в условиях относительно низкой инфляции, тогда как все 90-е годы она могла достигать нескольких сотен процентов. Одно дело, когда цены у вас растут каждый месяц на 10-15 процентов, другое дело, когда они «прибавляют» на 15-20 процентов в течение года. Возможности для сокращения заработной платы за счет ее инфляционного обесценения значительно сокращаются. Этот путь снижения цены труда оказывается сильно заблокирован в условиях нынешнего кризиса.
Это очень важный фактор, едва ли не главное отличие нынешнего кризиса.
Второе – ужесточение контроля над соблюдением трудового законодательства. Чем сильнее давят на предприятия, чтобы они своевременно выплачивали заработную плату или не применяли к сотрудникам вынужденные отпуска, тем больше они начинают увольнять работников, потому что прежние механизмы оказываются или закрыты или полузакрыты.
Ну, и за последнее десятилетие резко сократился масштаб среднего и крупного предпринимательства, и увеличилась доля малого бизнеса. И если кризис ударит по этому сегменту экономики, можно ожидать притока в безработицу только за счет масштабного закрытия мелких предприятий.
Но я не готов сейчас признать, что это означает конец российской модели рынка труда. Есть факторы, которые будут толкать к тому, чтобы модель сохранилась.
Обходные пути
Во-первых, в 90-е годы российская экономика вступила с огромным навесом работников, которые она унаследовала от советского времени. Сейчас его нет. Российская экономика пришла в нынешний кризис из состояния дефицита рабочей силы. Во-вторых, произошли резкие структурные изменения. В начале 90-х годов в секторе промышленности было сосредоточено более 40 процентов всех занятых. Сейчас менее 30. А именно промышленность – самая циклически зависимая часть экономики. Возможности для сброса рабочей силы для нее резко снизились. Такая же ситуация в торговле: там занято огромное количество трудовых мигрантов и ответом на кризис будет экспорт их обратно, в свои страны.
В-третьих, примерно 40 процентов российских работников сегодня составляет малый бизнес, а в этом секторе трудовое законодательство фактически не действует. Это означает, что этот сектор может реагировать гибко, применяя прежние механизмы, не боясь, что завтра к нему придет с проверкой прокурор.
Далее – по-прежнему большую долю в российских зарплатах занимают премии и различные доплаты. И менеджеры по-прежнему могут срезать переменную часть зарплат. Как и прежде, остаются высокими неофициальные выплаты – это возможность отмены или сокращения зарплаты в конвертах.
Даже допустим, что все перечисленные возможности заблокированы, и мы имеем дело с крупным предприятием, вынужденным более или менее соблюдать трудовое законодательство. Тем не менее, в России работодатели намного сильнее работников – в случае необходимости предприятии могут идти на сокращение основной ставки заработной платы. Для зарубежных стран это просто немыслимая вещь! Понятно, это более хлопотные затраты для работодателей, но учитывая неравные переговорные силы работников и работодателей, такой путь вполне реален и множество предприятий будет двигаться по нему, поскольку такая необходимость будет возникать.
Страх – спасительное средство
Что же касается присутствующего сегодня страха безработицы, то это своего рода «самонесбывающийся прогноз». Чем сильнее запугано общество страхом безработицы, тем меньше она будет. Потому что под действием этого страха люди начинают снижать свои требования к заработной плате. Они могут соглашаться на резкое ухудшение условий труда.
Так вот - похоже, что сценарий 90-х годов разыгрывается по второму разу. Как быстро работники будут снижать свои претензии к рабочим местам, свои запросы – в этом сейчас вопрос. Никаких точных данных у нас нет, но есть впечатление, что российские работники делают это быстро. Если так будет происходить, высокой безработицы в России не будет.
Скорее всего, колебания с занятостью будут чуть больше, чем в 90-е годы, но они не приблизятся к показателям стран Центральной и Восточной Европы. Каждый процентный пункт снижения ВВП будет сопровождаться ростом безработицы примерно на полпроцента. Это означает, что доминировать будет ценовая, а не количественная политика, и российская модель рынка труда сохранит себя в модифицированном виде.
Фото с сайта www.fdp.hse.ru
-
Валерий Лугинин: Новые правила начисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг22 ноября 2017, 15:27
-
40 % челябинских зарплат — ниже среднего15 ноября 2017, 15:29
-
Методы очистки стоков в загородном доме: накопительные емкости10 ноября 2017, 17:02
-
Керамическая плитка для лестниц и крыльца – критерии выбора и дизайн10 ноября 2017, 16:51
-
В Челябинске выступит Филипп Киркоров с грандиозным шоу «Я»09 ноября 2017, 13:54